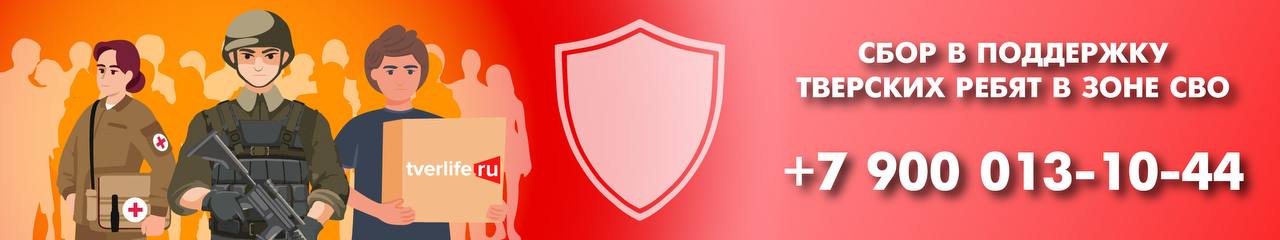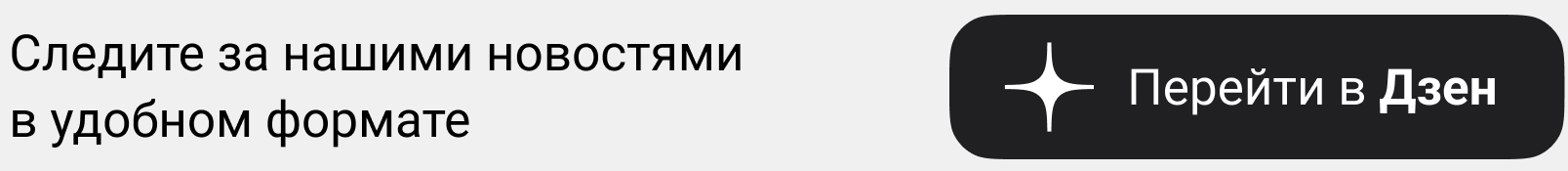В День защиты детей в Тверском театре кукол прошла уникальная творческая встреча. Дети и взрослые смогли пообщаться со звездой анимации, и все благодаря новому проекту от театра «Куклы и люди»(6+). «Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит», — говорится в посвящении к известной сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Эта фраза очень подходит к описанию прошедшей встречи. В этот день взрослые на какой-то момент стали детьми и смогли окунуться в мир анимационного кино. А помог в этом гостям известный режиссер Константин Бронзит. Наверняка вы знакомы с его мультфильмом «Алеша Попович и Тугарин Змей». В следующем году любимый не одним поколением мультфильм будет отмечать 20-летие. Бронзит также является одним из главных российских режиссёров анимационного кино. Обладатель сотен международных призов и премий, в том числе дважды был номинантом на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».


Отметим, что это было не выступление, не мастер-класс, не лекция, а именно встреча. А если быть еще точнее — беседа. И дети, и взрослые смогли выведать у Константина Бронзита все секреты профессии. Причем самые интересные и каверзные вопросы, как ни странно, аниматору задавали именно юные участники. И вопросы эти, подготовка детей, признаться, немного шокировали нашего гостя. Что же интересовало юных жителей Твери?
Где вы черпаете вдохновение, когда садитесь за новый мультфильм?
У каждого режиссера это происходит по -разному. Честно, я не знаю откуда это берется. Я всё придумываю с одной стороны — с потолка, практически. Но вы знаете, если у режиссера нет наблюдательности в жизни — одна из главных черт творца, — он не чувствует жизнь, не пульсирует вместе с ней. Как бы идёт в резонанс. Тогда режиссер не будет чувствовать эти сложные драматические ситуации. Этот свой чувственный опыт я переношу на экран. Какой ты человек, такое у тебя и кино, и по кино можно понять, что это за человек. За маской кино ты не спрячешься. И я всегда предостерегаю молодых режиссеров — ребят, не спешите выставлять себя напоказ. Будьте с этим осторожны.

А что вы посоветуете начинающему сценаристу?
Во-первых, то что я уже сказал, и не важно сценарист ты или режиссер, — наблюдай жизнь. Больше читай, «впитывай». А дальше самое главное и сложное — нужно пойти учиться. Этой сложной профессии нужно учиться долго. Приготовьтесь, путь обучения будет долгий — не два и даже не три года. Если ты готов к этому, то все получится. И начинайте с самых малых лет уже что-то пробовать писать.
Среди гостей также оказалась и министр культуры Тверской области Ксения Глинка. Она задала свой вопрос.
У вас очень много юмора. Когда у вас рождается какая-то шутка, которая должна вызвать у зрителя смех, проверяете ли вы её в домашних условиях, советуетесь с кем-то? Какой у вас механизм проверки?
С юмором вообще отдельная ситуация. Действительно, я проверяю шутки в своём узком кругу. Я показываю какой-то фрагмент, секвенцию. Жена моя обычно редко смеется. Вот, например, показывал ей фрагмент и думал, что там «страшно» смешная сцена. Остроумно, «по -бронзитовски». Но знаете, жена хихикнула только в одном месте. Я лично не смеюсь над шутками. И тут ты уже исключительно полагаешься на собственное чутье. Пошутил ты удачно или нет, экран покажет. Открою секрет: я очень люблю Чарльза Чаплина, я учился у него. Чувство юмора — это такая вещь, которой точно никто не научит фильмах. Там бесконечно эта амплитуда, смена регистра — от смешного к трагическому. Я как бы взрастил это к себе. Вроде бы делаю трагическую историю, но там обязательно должно быть что-то смешное, снижающее этот градус в какой-то момент.


Сложно ли озвучивать персонажей?
Нет, не сложно. В моей профессии это самое простое. Озвучиваю их всю свою жизнь. Раскрепощаешься, пробуждаешь в себе того самого «ребенка». Мы в детстве все это делали, так или иначе. Родителям хочу дать совет: будьте внимательны, не отвлекайте детей, когда они находятся сами с собой и им не скучно. Это очень важный навык в жизни.

Как вы считаете, будет ли взрослая анимация в России в будущем развиваться в формате полнометражного кино с таким же размахом, как сейчас создается детская анимация?
Хороший вопрос. Есть попытки. Тут два тонких момента. Авторское кино все равно идет для широкой публики, это наша авторская история. С ним в целом сложная ситуация везде: пойди, найди в Европе или Америке продюсера и убеди его, что эта история будет кому-то интересна. Когда речь идет о большом кино для экранов, нужно все-таки что-то более демократичное, популярное. Но есть и вторая часть — тонкая: мои учителя научили меня простой вещи — относись даже к такому проекту, как «Лунтик», как к авторскому кино. Бери такую планку для себя, это же не халтура.
Ваши работы были номинированы на «Оскар». Труды над «Алешей» стали уже классикой. Изменились ли какие-то мотивы подачи информации самым маленьким зрителям? Что им сейчас важно, нужно? И что важно транслировать в анимации?
Важно демонстрировать, в том числе в анимационном искусстве, светлое и вечное. Это касается как маленьких, так и взрослых зрителей. Искусство разворачивает душу человека в сторону добра, несет не воспитательную функцию, а образовательную, возвышающую над обыденностью. Искусство дарит те эмоции, которые не подарит ни одна другая человеческая деятельность. Это самое драгоценное. И ребенок, как чистый, интуитивный, ещё нерациональный человек, готов в них погружаться даже больше, чем мы, взрослые.
Раньше был такой мультфильм «38 попугаев». Если его смотреть, то как будто разговаривают дети советского времени. А сейчас, когда вы видите и слышите общение детей, вы выносите его в своих мультфильмах?
Отмечу, что у всех режиссеров по-разному. Обычно есть ограничения самого проекта. Если я делаю современное кино с современными персонажами и их язык, на котором общаются дети, должен быть понятен — это правильно. Но позволяет ли это сделать задача каждый раз, развернуться или нет? Диалоги в кино — это вообще страшно сложная вещь. Есть отдельная профессия, где специально пишут диалоги для проектов.

Не секрет, что большой процент успеха мультфильма зависит и от музыкального сопровождения. У вас в работах очень много авторской музыки. Что вас больше привлекает? Как работается с композиторами?
Я очень осторожен с музыкой в кино. Предпочитаю, когда её меньше. Вот например Андрей Тарковский считал, что музыки не должно быть в кино вообще, хотя, с одной стороны, это важнейший эмоциональный инструмент режиссера. Я его понимаю, такая позиция мне ложится. Все потому что её нет в жизни: её не должно быть, если она не часть звучащей реальности. Вот, например, когда радио играет, то да. Тогда музыка естественно присутствует в кино. С композиторами работать мне не сложно. Я точно знаю, где, в какой момент и какого характера музыка должна звучать. Чуть ли не референс им приношу.
Что для вас кино?
Для меня это это своего рода селф-терапия (самотерапия). Способ излечиться. Когда ты не думаешь о кино, ничего не хочется делать. Мультипликация — это единственная уникальная творческая профессия с самым низким коэффициентом полезного действия. Чтобы получить 15-30 секунд вменяемого изображения, нужно потратить неделю жизни. Мой 15-минутный фильм «Мы не можем жить без космоса» я делал четыре с половиной года . Устаешь от этого, и не думаешь об этом, и вдруг к тебе приходит идея, которую ты не можешь отбросить. Она поселяется к себе в голову, и тогда единственный способ избавиться от этого — сделать фильм. Я таким образом избавляюсь от того, что начинает отравлять мой сон, бытие. Вот так это работает. Это часть моей жизни. Я был обречен быть мультипликатором, понял это где-то во втором классе. Много людей мучается с вопросом, кем мне быть, а мне в этом плане повезло. Это счастье.

Также режиссер поделился и новыми проектами. Так, в следующем году в прокат выйдет полнометражный фильм про мусор. В центре сюжета окажутся персонажи, которых выбросили на помойку. Кроме того, идёт работа над полнометражным фильмом о Лунтике и его друзьях, премьера состоится уже в 2024 году.

Еще больше интересных материалов читайте в журнале «Тверьлайф».